До сих пор я уверен в том, что в школу она приезжала на машине времени. Какое-нибудь роскошное ретро-авто с открытым верхом и намотанным на заднее колесо шарфом. И еще я очень удивлялся, где же она оставляет мундштук с дымящейся папироской: в машине или в учительской?
Все эти и им подобные вещи уж очень сочетались с ее обликом женщины Серебряного века. И если ее машину и мундштук из слоновой кости никто никогда не видел, то глаза врать не могли. Горящие глаза человека, который непобедим, потому что бессмертен. Взгляд моей первой учительницы тоже рождал пламя, но то был лихорадочный свет самовлюбленного фанатика. Здесь же к вам спускались звезды — свидетели зарождения мира. Их отблеск явно просматривался в двух темных агатах, которые благородно обрамляли такие же темные волосы. Плюс голос нараспев, с использованием всех доступных октав и гамм, и словарный запас, объем которого явно превышал методическое пособие по литературе для учителей средних и старших классов. Я хочу сказать, что в ней было все для того, чтобы полюбить литературу или возненавидеть ее до конца дней и считать уделом бездельников и приютом сумасшедших неудачников.
С любовью у меня всегда дела были неважные, а в этом случае вообще все вышло печально. Первой моей оценкой, которую это темноволосое создание аккуратно вывело в журнале, явно испытывая чувство мести, стала двойка. Надо отдать должное, что месть вершилась не за себя, а за оскорбленного писателя Островского. Она задала свой коронный вопрос. Задала громким, высоким голосом, который срывался в фирменное рыдание:
— Почему???? Ключ!!!! ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖот!!!!!!!! руку Катерины???
Я с детства не любил пафоса и, нарушив торжественное молчание, высказал свое предположение, почему так произошло с этой истеричкой. Что? Нет, мне даже сейчас неудобно вспоминать свою остроту. Двойку я заслужил. А потом и двойку в четверти. Впрочем, именно эти двойки меня не волновали, потому что, забегая вперед, скажу, что первую четверть я закончил с десятью двойками и четырьмя не аттестациями. Впереди меня ждала счастливая трудовая жизнь, планов на нее никаких не было и в общем-то вступать в нее тоже не было никакого желания. «В дворники пойдешь!», говорят в таких случаях. Мне сказали тоже самое. Я задумался: получается, дворники — это презираемые люди. Но почему тогда меня учили с ними здороваться? Наверное, из страха. Ведь в руках у глупых дворников обычно метла, а зимой — лопата. Кто его знает, о чем думает дворник с лопатой? Лучше здороваться первым. А еще дворники — единственные на земле люди, которые не разбрасывают мусор, а его убирают. Каждый день. И что в этом плохого? Я совсем запутался от таких размышлений, решил болеть и меня стали лечить. В сентябре мы с бабулей уехали в санаторий на Кавказ.
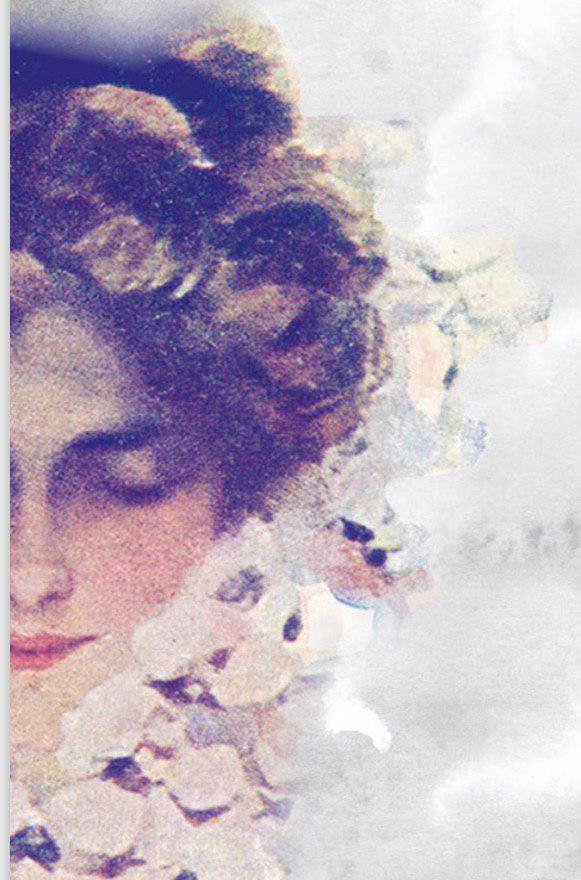
Все это очень напоминало пушкинскую или лермонтовскую ссылку. Мы ехали ночью, долго, поездом. На нижней полке храпела бабуля, возле окна качалась, подвешенная на веревочке копченая колбаса, а я лежал наверху и писал письмо своему другу, которого у меня не было. Я писал ему о том, как лежу на верхней полке и о своей девушке, которой у меня тоже не было. Зато была эта ночь, дорога и открытое окно, в котором был виден удивительный мир, наполненный темнотой, редкими огнями, звуками и запахами.
Кавказ был суров, но красив. Было там все, за три санаторных недели была прожита маленькая жизнь. Появились и верный друг — татарин Рафик, и настоящий опасный враг — из местных джигитов, и даже беззащитная красавица, которую нужно было спасать от похотливых притязаний джигита. Горы, река, кипарисы. Благородные люди, подлые люди, добрые люди, злые. Три недели — и целая жизнь. Так часто бывает в пятнадцать лет, в шестнадцать. А потом это куда-то уходит. Тянутся дни, годы, десятилетия — и не происходит ничего.
Вот в это ничего я и вернулся после Кавказа. Педагогического прорыва не произошло и потерявший интерес к учебе подросток, получил свой табель, где все оценки за четверть были до ужаса неприличными — даже по физкультуре. По этому поводу произошел неприятный разговор с отцом. Он не ругал и не уговаривал, не грозил, не кричал даже. Просто высказал свое глубокое и искреннее разочарование во мне. Я понял, что перестал для него существовать и мне хотелось как-то исправить все, стать хорошим, чего-то достичь. Но как? Ведь никто не подсказал, как делать хоть что-то, когда не можешь делать ничего. Не просто — не хочешь, а уже — не можешь. Кавказ не вылечил меня, а еще раз подтвердил: что-то не так с тобой, парень.
И я стал думать, но особо ничего не придумывалось. Наверное, потому, что представлял себе сразу какие-то глобальные вещи, а начинать надо с простых. Например, для начала просто ходить в школу и сидеть на уроках. Это, конечно, не такое приятное дело, как сидеть дома и мечтать под бесконечную музыку, но я решил попробовать. Ходить получалось не на все уроки, зато я понял о себе одну важную вещь. Оказалось, что я меньше технарь, чем гуманитарий. По крайней мере, уроки истории и литературы я без проблем высиживал от начала и до конца. Это мало, что меняло. Я никак не мог понять, зачем объяснять то, что писатель написал? Если он написал хорошо, то все и так должно быть понятно. Писатели в учебнике все были хорошие и писали хорошо, без ошибок. У многих были усы и бороды, а у кого не было — тем их дорисовали шариковой ручкой вместе с круглыми очками и вампирскими клыками.
Мне очень не нравилось, что таких прекрасных писателей наглым образом используют, чтобы привить мне чувство вины. Весь этот холодный мертвый текст учебников и методических пособий искажал и отвращал от оригинала. Я возненавидел всей душой истеричку Катерину, нигилиста Базарова, тюфяка Обломова. Любимое с детства развлечение, чтение — оказалось тяжким трудом и мукой. И не говорите мне, что есть на свете люди, которые любят роман «Обломов». Лицемерие. Кто будет читать его без школьной программы? А программа убивала вещи гораздо живее.
Однажды, получив очередную двойку, я сидел и безучастно наблюдал за происходящим на уроке. Темноволосая артистка, видимо исчерпав на мне запас двоек, вдруг сказала:
— Ладно. Хорошо. Тогда давайте поговорим о тех книгах, которые вы читали.
Она вызвала еще одного заядлого двоечника и прожигателя жизни. И он целых пятнадцать минут рассказывал содержание романа Алексея Толстого «Петр Первый». И получил пять. Это была жуткая несправедливость. «Петра Первого» я прочитал в четвертом классе, а в пятом «Ивана Грозного», после «Проклятых королей» Мориса Дрюона. Не говоря уже о перечитанном со второго по восьмой Александре Дюма и с шестого по девятый — Валентине Пикуле. О царях и королях я знал все! Почему же не спросили меня? Ведь я мог еще рассказать о смелых и мужественных людях Джека Лондона. О рыцарях Вальтера Скота. О неграх Маргарет Митчелл и о тех временах, когда их еще называли неграми. Даже о князе Болконском, которого мы будем проходить через полгода, я много чего мог рассказать. Но в моем случае все это оказалось ненужным и бессмысленным, потому что я полностью проигнорировал тургеневские страсти о нигилистах и «новых людях» и был заклеймен в темноглазом сознании, как люмпен и гопник. И еще потому, что родился под несчастливой звездой.
Мое обычно сонное состояние было нарушено обидой. Но странное дело: вместе с обидой ко мне пришел азарт. Ведь если можно так, то почему не я? И если не захотели слушать мое, то пусть послушают свое, но в моем исполнении. Я решил поставить эксперимент и на этом поставить точку. Прочитать один роман из программы и посмотреть, что из этого выйдет. Однажды вечером я пришел домой и раскрыл книгу с историей про бедного студента, которому не в добрый час попался на глаза топор. Так в мою жизнь вошел Достоевский. Неожиданно для самого себя, я увлекся и дочитал до конца. И стал ждать. Не пропускал ни одного урока литературы. Тянул руку. Садился вперед. Но меня так и не вызвали.
И я понял про себя еще одну важную вещь. Даже если ты гуманитарий, есть те, кто видят тебя исключительно пролетарием. То есть с Достоевским я — пролетел. Зато Островский был отомщен. Оставалось прийти на последний урок и написать по нему сочинение.

Я раскрыл тетрадь и погрыз ручку. Что писать, я совершенно не знал, но знал: что бы я ни написал — результат будет плачевным. Что можно ожидать от человека, который пытался острить, почему ключ жжет руку Катерины, не прочитав саму пьесу? Поэтому я расслабился и просто прокрутил еще раз в памяти удивительную, одновременно депрессивную и светлую историю о бедном студенте. Незаметно пришла первая фраза, я постепенно увлекся и пришел в себя только исписав шесть тетрадных страничек.
Это было удивительно. Будто солнечный Кавказ ворвался в душную комнату с мертвыми электрическими лампами. За сорок минут я прожил целую жизнь. Студент дрожал, сжимая под мышкой липкий от крови топор, люди вокруг умирали от водки, туберкулеза, веревочной петли, проваливались в серые колодцы домов города-спрута, пили спитой чай и ели кислые вчерашние щи. Но когда вокруг такая тьма, то должен быть и свет. И еще надежда, и Сонечка, вечная Сонечка…
Я сдал работу, отметив про себя, что как бы там ни было — сегодня что-то произошло. Интересное чувство. Но к вечеру оно исчезло. Я лежал на диване, смотрел в потолок, слушал музыку и совершенно забыл о бедном студенте с его топором и Сонечкой.
Катастрофа разразилась через неделю. В тот день пафос женщины Серебряного века зашкаливал. Она проверила сочинения и вместо того, чтобы просто объявить оценки, произнесла целую речь. В ней были, как обычно:
а) гаммы
б) октавы
в) истерика
г) закатывание глаз
д) заламывание рук
е) прочее…
Смысл сводился к тому, что она была поражена, взбудоражена и переполнена чувствами. Но мне, как всем остальным, стало интересно: кто довел училку до экстаза? И чем? И что она вообще имеет в виду? По опыту мы уже знали, что за похвалой у нее иногда скрывается убийственная ирония. Поэтому, когда она начала читать вслух, мне стало страшно. Я узнал свою историю злоключений человека с топором. То есть не свою, конечно, а историю Достоевского в моем понимании. Ей понравилось. Она была в восторге. Отзвучала последняя фраза, отхлопали аплодисменты, прозвенел звонок. Было жутко приятно, но если честно, то я никак не мог понять: что там такого необычного получилось? Еще один пересказ писательского рассказа. Наверное, все дело было в том, что я пересказывал не методичку, не учебное пособие, а что-то свое. Ведь все читают одинаковые книги, а мысли и чувства они вызывают разные.
И пошло-поехало. Мое сочинение она читала в учительской и в других классах. Там не хлопали и вообще эта слава была сомнительна. Ведь Серебряный век давно закончился. Наступали совсем иные времена. Никто уже не спрашивал в два часа ночи, как пройти в библиотеку. Меня хлопали по плечу и говорили: молодец, парень! А потом как-то давали понять, что делом — делом надо заниматься. То есть считать гораздо выгодней, чем читать. Наступала новая эпоха новых людей. Совсем скоро они наденут малиновые пиджаки и кожаные куртки, потом сменят их на одежду от Кардена и Тома Клайма. А я так и останусь в старых джинсах и с томиком Блока под мышкой.

Но тогда мне было все равно. Я нашел своего человека и успокоился. В душном кабинете с засиженными мухами портретами классиков, повеяло свежим горным воздухом. Очередное сочинение зачитывали вслух. И еще одно. И еще. После двойки в четверти, я получил пять за год. Это было нарушением правил и мне это нравилось в ней больше всего. У меня тоже не очень с правилами до сих пор. Особенно, когда они противоречат внутренним убеждением. А с ней и не могло быть иначе. Ведь ее любимым поэтом был Маяковский. Брутальный громогласный красавец, не стесненный условностями и умеющий «жахнуть» так, что мало не покажется. Мне он тоже нравился. Я выбрал одно из самых провокационных его стихотворений, когда нужно было рассказывать наизусть. Стихотворение называется «Нате!». Он там всем раздает:
Вот вы, мужчина,
у вас в усах капуста
где-то недокушанных,
недоеденных щей;
вот вы, женщина,
на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей…
а если сегодня мне,
грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.
Последнее слово я произносил на ее манер — «ммммммот!». Получалась натянутая струна, которая безжалостно рвалась под конец. Нет, я не подлизывался. И дело было не в пятерках. Пятерки шли сами собой. Дело было в другом. Долго, очень долго в моей недолгой жизни были потолок и музыка, стены и тишина. И очень долгое время не происходило ничего. Великое ничего. Но когда-нибудь все меняется. Все меняется, если вы хотите это поменять. Жизнь дает отклик и появляется в ней какое-нибудь чудо с горящим взглядом и истерикой в голосе. Нате. Получите. Оценки по остальным предметам тоже становились все приличнее. Общение с отцом переставало быть мучительным. А потом в дело вмешались золотые зубы.
Обладательницей золотых зубов была директор школы, и ей было обидно. Ведь она тоже преподавала мне литературу почти четыре года, в перерывах между преподаванием обещая посадить в тюрьму. Обещание тюрьмы было ее любимым развлечением. Иногда казалось, что ходили мы все не в школу, а в исправительную колонию для малолетних. Я попал в немилость из-за своего языка, который до сих пор не умею вовремя прикусить. Ну, это заметно.
Однажды я прогуливал урок и притворялся дежурным по школе. В школу зашла женщина, как потом оказалось, из «районо». «Районо» — это такая жуткая организация для учителей и директоров — там их, как и они нас, пугали тюрьмой. Женщина спросила, не видел ли я Зою Петровну, директрису? Я задал встречный вопрос:
— Зоя Петровна? Это такая, с кучерявой прической «химия»?
Женщина неуверенно улыбнулась. Я уточнил:
— Такая, с золотыми зубками?
Женщина застыла в замешательстве. Я продолжил:
— На толстеньких ножках?
Женщина растерянно смотрела мне за спину. Я резко оборвал нашу беседу:
— Нет. Не видел.
Потом обернулся, чтобы уйти и нос к носу столкнулся с золотыми зубками и прической «химия» на толстеньких ножках. Ну что вам сказать? Это был залет.
Она ждала почти два года, чтобы отомстить. На выпускном экзамене по литературе первым делом наорала на всех, а меня вызвала отвечать без подготовки. Не тут-то было. Гордый Кавказ взбунтовался и на все вопросы ответил презрительным молчанием.
— Вот он ваш — хваленый вундеркинд, — сказала она, обращаясь к моему темноглазому хранителю, — обычный неуч и бездельник.
После того, как ее жажда крови была удовлетворена, все остальные сдали экзамен на 4 и 5.
Я получил «два», но сильно не расстроился. С двойкой в аттестате никто еще из школы не выпускался — «районо» не позволяло. Пересдавать я пошел с другим классом. Второй экзамен проходил дремотно и спокойно. Люди пересказывали учебник по литературе и читали выученное наизусть стихотворение. В десяти из десяти случаев это был пьяненький слезливый Есенин. Все знали, что золотые зубки любит Есенина. Говорят, что крокодилы любят поплакать, убивая своих жертв.
Мне выпал именно тот билет, который и должен был выпасть. О женщинах Серебряного века. Блеск золотых зубов немного пугал, но я знал, что он смягчен двумя рюмками армянского коньяка и копченой колбасой, с которой срезали веревочку, но не смогли снять шкурку, поэтому так нечищеную и порезали на бутерброды. Блюдо с бутербродами, вместе с лимоном и коньяком стояло в учительской подсобке. Все-таки гостеприимство — великая вещь, особенно во время экзаменов, а сытый крокодил гораздо менее опасен для окружающих, чем крокодил голодный.
Но я долго не мог решиться, пока не сделал над собой усилие и не перевел взгляд с белой кудрявой «химии» в агатовую глубину сияющих звезд. Вот же, подумал я. Вот она — Женщина Серебряного века. Ахматова, Цветаева и Гиппиус в одном лице. Почему ключ жжжжжжжет!!! руку Катерины? Да потому, что она живая. Из меня полилась лирика женского сердца под одобрительные кивки членов приемной комиссии. Но и тут я ухитрился все испортить.
Когда пришла пора читать наизусть, я вдохнул побольше воздуха и понял, что сейчас все и закончится. Ну и пусть, подумал я. Пусть. Зато Кавказ… Что имелось в виду под «Кавказом», я сам до конца не мог понять. Ссылка Пушкина? Дуэль Лермонтова? Я улыбнулся, увидел, что она тоже улыбнулась и послал Есенина подальше. Дремотную тишину экзаменационного кабинета разорвал Маяковский:
…вот вы, женщина,
на вас белила густо…
И вот,
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мммммммммммммммммммот.

А что? Маяковский — школьная программа. Впрочем, если бы толстенькие ножки начали в ярости стучать по полу — о логике можно было забыть. И вот тогда темноволосый хранитель совершил, по всей видимости, свой самый смелый поступок за всю учительскую карьеру. Не успел затихнуть звук лопнувшей струны, как тут же зазвучала ее гамма, вперемешку с самой высокой октавой:
— Велллллликолепно! Браво!
В классе, кажется, хлопали. Не знаю, что произошло с золотыми зубками. Армянский коньяк, дух Кавказа или еще какое-нибудь волшебство. А, может, она все-таки была женщиной и умела ценить смелые до дерзости и мужественные до безрассудства поступки. И хотела верить, что смелые мальчики вырастают и делают мир лучше, а трусливые — строят тюрьмы. Ведь в конце концов, ее предметом тоже была литература. Что она могла сделать против нас троих вместе с Маяковским? К тому же в тот момент за нами стояли все женщины Серебряного века.
На выпускном вечере я смотрел в сияющие звездами глаза и пел под гитару что-то из Блока. Потом читал стихи вслух и среди них — вы сами знаете чьи и какие. На тот момент я уже совершил свою первую подлость: выкрал из ее шкафа тетрадь со своими сочинениями. Я не оставил ей после себя ничего и никогда больше ее не видел. Мальчики и мужчины порой совершают странные поступки. Из страха, наверное. Какими бы они ни казались смелыми — иногда им становится нестерпимо страшно. Потому что смелость заканчивается вместе с любовью, а рядом нет никого, кто мог бы сказать: эй, парень, это не конец — все только начинается.
На вступительных экзаменах в престижный вуз на престижную специальность я аккуратно переписал свое лучшее сочинение. И получил за него три балла. Пять баллов получил один кавказский парень по фамилии Оглы. Язык он немного знал. По крайней мере, я его понял, когда после экзамена он попросил у меня закурить. Кавказ не простил предательства и насмешливо слал мне свой привет.
Очень долго я пытался втиснуть себя в малиновый пиджак, кожаную куртку, брюки от Кардена. Брюки трещали на мне по швам, пиджак висел, как на тремпеле. И в кожаной куртке у меня никак не получалось выглядеть решительным и опасным. С очками на носу и очередным томиком, спрятанным в рукав. Потом пришло великое ничего и стена, о которую разбивалась любая музыка. Я смотрел в стену и понимал, что что-то пошло не так. Что-то не так с тобой, парень. И очень давно. Мне было страшно, и я не знал, как найти свою смелость. Как набрать в грудь воздуха и крикнуть «им всем»: нате! получите! Для этого есть только один способ. Другого пока не придумали.
Недавно я узнал, что женщина Серебряного века все еще жива и все также поет свои октавы и гаммы. Только аудитория у нее теперь значительно меньше. Мне захотелось написать и показать ей что-нибудь. Ну вот, хоть эту историю. Я знаю, что она понравится — ей всегда нравились мои истории, даже когда они были пересказами чужих. И еще знаю, что никогда не приду к ней. Это горькая, но правда. Страх прогоняют только одним способом, а я не знаю, как у меня с ним. Но ведь никогда не узнаешь, если не пробовать и в этом тоже — правда.
Мне хочется думать, будто это уже случилось. Я пришел, принес свою книгу, но так и не решился подписать. Мы долго пили чай и смотрели друг другу в глаза. Я думал о том, что Время не властно над темными агатами и над отблеском звезд в их глубине. А потом прочитал ей стихи. Вы сами знаете — чьи и какие…
Велллллликолепно! Браво! Вы — смелый! Читала Вашу историю и вспоминала свои школьные годы. Очень жалею, что так и не пришла к своей учительнице по литературе. Я ей за многое благодарна… Спасибо!
Благодарю Вас, Наталья, за добрые слова.
С уважением, Дмитрий.
Как близко и знакомо. И тот же вызов, но в другие времена. Читал я «Вам», того же автора, через три кабинета и пять лет, не зная, этой истории. «Кровь.», как сказал
бы незабвенный Коровьев…
Это прекрасная литература. Запомню Вашу фамилию. ОТКРЫТИЕ этого года для меня.
Мне очень понравилось!!!Читаю и вижу перед глазами Диму-школьника:таинственный и пытливый взгляд, красивый и статный внешне , если даже с чем -то не согласен, не считает нужным спорить и доказывать..
Эдакий Печорин в миниатюре..
Талант рулит!!Ничего не поделаешь!!Некоторые рождены не для малиновых пиджаков, а чтобы своими произведениями сделать мир лучше!!!