
«Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле», — писал Антон Павлович в рассказе «Студент». И слова эти, безоговорочно, — основной постулат всего его творчества и всей его жизни.
«Штудировка и воля», «непрерывный дневной и ночной труд», жизнь на пределе были предприняты именно ради правды и красоты. Ироничный, боявшийся пафоса, как огня, Антон Павлович говорил, что все его литературные успехи происходят от того, что критик Скабичевский когда-то испугал его, посулив смерть под забором в пьяном виде.
Главная тема
Возьмусь утверждать, главная тема творчества Чехова — те, кто оказались «под забором» в самых разных смыслах. А если оставить в стороне фигуры речи, те, кто не выполнил своего жизненного предназначения. Главное содержание пьес и рассказов Чехова — плач о человеке, о глубоком трагическом несоответствии того, каким он должен быть и каков он есть. В этом плаче нет надрыва, нет роковой обреченности, нет смакования беды, нет жалобы на жизнь — всё это было для Чехова совершенно неприемлемо.
Бунина, к примеру, раздражало, как зорко и страшно Чехов подмечал пошлость. Если бы его творчество к этому сводилось, оно действительно было бы унылым и тяжким, но Чехов всегда, если можно так сказать, объёмен, а не плосок. Он всегда показывает хотя бы малую искру хорошего в пропадающем человеке. И жалко становится не только персонажей Чехова, а и самого себя. Появляется тот самый таинственный эффект, о котором лучше всех сказал литературный критик Марк Щеглов: «Не могу спокойно читать Чехова, кажется, не выдержу, умру, сожгу себя — и из пепла встанет новый, в котором всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Если бы Раневская в «Вишнёвом саде» была лишена обаяния, если бы не вызывала всеобщей безоговорочной любви, если бы Лопахин не вспоминал её как прекрасное видение из его детства, когда она, нарядная и благоухающая, утешила и приласкала его, — то история чудовищной эгоистки, разоряющей семью, не была бы чеховской.
Ионыч не был бы чеховским персонажем, если бы не было в его жизни молодой влюблённости и ночи несостоявшегося свидания.
Лопахин не был бы чеховским персонажем, если бы не цитировал Шекспира и не было бы у него «тонких пальцев, как у артиста», «тонкой нежной души». Примеры можно продолжать.
Чехов горюет о всех, кто бездарно прожил, кто убого живёт. Он раздваивает жизнь каждого персонажа на реальную и ту, которая могла состояться.
Самым очевидным и неприкрытым образом делает он это в рассказе «Красавицы»:
«Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомлённое бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба».
Таинственный эффект Чехова достигается столкновением красоты и пошлости, и на этом стыке искрит желание себя лучшего. «Какие красивые деревья, и какая, в сущности, красивая должна быть под ними жизнь». Это один ключ к чеховской тайне. Другой ключ — до боли ощутимое несоответствие между тем, что должно быть и что есть в человеческой личности. И в этом нет противоречия, потому что добро, красота и истина составляют единство.
Чехов о смысле жизни
В богословии есть термин, которым хочется воспользоваться для разговора о Чехове. Апофатическое богословие — метод, который говорит о Боге при помощи отрицания, перечисление того, чем Он не является.
Антон Павлович Чехов, касаясь смысла и цели жизни, всякий раз говорит нам о том, чем он не является. Он нигде и ни разу не сказал, а что же делать, чтобы делать именно то, что нужно. В знаменитом письме брату написал программу, которую осуществил сам, но ни в одном из произведений не сформулировал, что же делать для того, чтобы «правда и красота» стали главными именно в твоей жизни.
Если смысл не в «светлом будущем», то в чем? Может быть в труде? В осуществлении поставленной задачи? В гармоничной жизни на лоне природы? В романтической любви, наконец?
В рассказах «Ионыч», «Крыжовник», «О любви» Антон Павлович трижды ответил «нет». Ужасаясь деградации Ионыча, превращению его в бездушного накопителя, мы как-то упускаем из виду, что история его жизни — это не только утрата способности к романтическим чувствам. Жизнь Ионыча — это жизнь того самого земского врача, по которым ныне ностальгируют многие. Ионыч — труженик, но, оказывается, даже такой благородный труд-служение, как труд врача, не гарантирует человеку ни счастья, ни совершенствования личности. Будет забавно, если мы применим к Ионычу популярное нынче слово «выгорание». А ведь никакой неправды в этом нет.
Своим самоотверженным трудом тяготится Ольга из «Трёх сестер», а Ирина строит планы трудовых подвигов, чтобы заглушить в себе тоску от предполагаемого брака с нелюбимым. Она тоже быстро «выгорает», когда принимается за дело. Словом, тем, кто верит, что счастье в труде, Антон Павлович отвечает «нет».
Добавим, что это же «нет» Чехов говорит и в том случае, если «выгорания» не произошло. Почему тоскует доктор Астров, почему он, самоотверженный доктор и человек, сажающий леса, чувствует себя благодетелем человечества только когда пьян? Почему тоскует герой «Скучной истории»?
«Скучная история», пожалуй, самая наглядная. Её главный герой преуспел в жизни, насколько это только возможно. Причём не урвал чины и положение в обществе, а, будучи талантливым и трудоспособным человеком, удостоился и звания профессора, и чинов, и дружбы со знаменитостями. А точнее, ему как значительной личности было свойственно глубокое общение с людьми незаурядными и интересными.
Когда-то он женился по большой любви. У него двое уже взрослых детей и милая его сердцу Катя, дочь рано умершего друга, которую он вырастил как свою.
Вся повесть представляет его монолог, монолог человека, достигшего 62 лет, понимающего, что он скоро умрет от болезни, в которой ему его медицинское образование не позволяет усомниться, но печаль его, как и всей этой повести, не в том, что он в отчаянии от скорой смерти, а в отсутствии смысла и ценности во всём, чем он живёт. Этот умный, тёплый и милосердный человек, всё ещё блистательный лектор, человек, получающий удовольствие от своего труда, не может ответить Кате на вопросы, зачем жить, что делать.
Рассказ «О любви» весьма провокационен, но, на самом деле, вполне однозначен. Слова главного героя, о том, что любовь превыше всего, не являются главной мыслью автора и главной мыслью текста, в отличие от «Гранатового браслета» Куприна. Рассказ начинается исподволь, с рассуждений и обобщений. Перед глазами беседующих появляются повар Никанор «с пухлым лицом и маленькими глазами». Мы узнаём, что он «пьяница и буйного нрава», а горничная «красивая Пелагея» влюблена в него.
«Как зарождается любовь, — сказал Алёхин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего ей по душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, — всё это неизвестно, и обо всём этом можно трактовать как угодно».
И, наконец, Алёхин начинает рассказывать о своей любви к Анне Алексеевне, той самой, описывая прощание с которой в вагоне, он скажет те самые провокационные слова:
«Я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». Так вот, рассказ человека, который так чувствовал и думал при прощании с Анной Алексеевной, начинается с того, что муж её «милейшая личность» пригласил его к себе и он впервые увидел предмет своей тогда будущей, а теперь уже прошедшей любви. «Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней».
А чувства-то, оказывается, проходят. И об этом нам Чехов рассказал прежде, чем о самом чувстве. История этой любви — история хороших людей, которые думают не только о себе: «Я любил нежно, глубоко, но я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни её мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это?».
«И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила её мужа, как сына».

В рассказе «О любви», в отличие от почти обязательного в подобных историях подчёркивания глубокого несоответствия постылого мужа возлюбленной, написано совсем иное: «…по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслова, я мог заключить, что живут они мирно и благополучно, и что они рады гостю».
Досада на несостоявшееся прошлое есть в другой истории Чехова «Рассказ госпожи НН». Но досада эта на то, что героиня прозевала любовь, упиваясь тем, что она знатна и богата, а влюблённый в неё управляющий имением её отца оказался слишком робок и покорен предрассудкам, касающимся родовитости и богатства. Горевать о сломанной собственной гордыней доле можно, а о неосуществлённом грехе прелюбодеяния, оказывается, нет.
Ну и как же говорить о любви у Чехова без «Дамы с собачкой»?.. В финале рассказа Чехов описывает, как Гуров во время свидания с Анной Сергеевной увидел себя в зеркале, заметил, как он поседел, постарел, подурнел. Он чувствует сострадание к Анне Сергеевне «к этой жизни, ещё такой тёплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как и его жизнь». Эта сцена написана так, как если бы кинокамера удалялась от персонажей, охватывая всё большее только не пространство, а время. И разговор о том, как «избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу» переходит вдруг в гораздо более общие размышления — размышления о смысле жизни, конечной и хрупкой.
«И казалось, что ещё немного, и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное только ещё начинается».
Обратите внимание, как этот последний абзац текста далёк от утверждения, что прекрасная жизнь будет именно вдвоём.
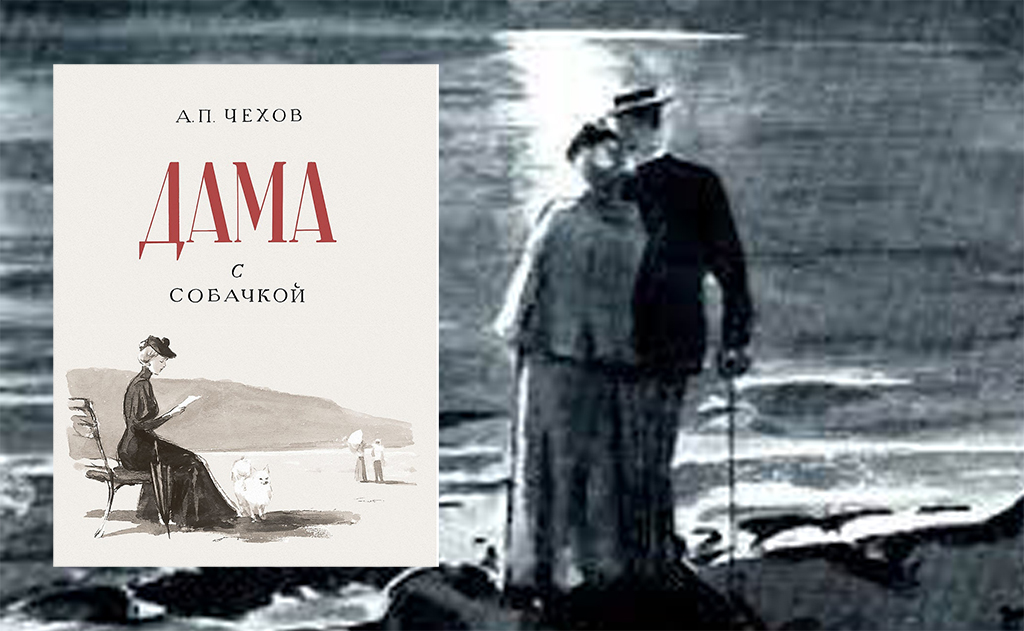
И вот эти многократные «нет», «не то», «не в этом смысл», «этим не удовлетворишься» рождают смутный неосознанный вопрос «А в чём же?».
Может быть, человеку вообще мало всего, что есть на земле? Может быть ему нужен выход к тому, что сверхъестественно и чудесно? Однозначно у Чехова только о правде и красоте, да о человеке с молоточком, да о личной ответственности каждого в «Палате №6». Всё остальное плывёт, зовёт, манит, ускользает. Ничего не названо в лоб.
Посмею посягнуть даже на хрестоматийные слова доктора Астрова: «В человеке должно быть всё прекрасно…». А что, если не откладывать в сторону чеховский текст, чтобы взяться за изготовление транспаранта, а всё-таки почитать дальше, что говорит влюблённый доктор Астров о Елене Андреевне.
«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует нас своею красотой — и больше ничего. У неё нет никаких обязанностей, на неё работают другие… Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою».
Можно не заметить, насколько Чехов требователен к людям, если заметить не захочешь. Можно не заметить, как близко подводят все его «не» к Истине, которая Господь. Нашёл сам Антон Павлович эту Истину, или так ярко отобразил жажду Её, потому что сам остался с жаждой неутолённой?
Писать о вере Антона Павловича Чехова крайне неловко, потому что, говоря об этом, чувствуешь себя тем сыном из притчи, который сказал отцу «иду», а сам не пошел. А Чехов сказал «не пойду», но пошёл и сделал. Запрет судить — одно из самых красноречивых доказательств, что иго Господне легко.
«Левитанистый» Чехов
Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный,
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
Эти строчки Бориса Леонидовича Пастернака свидетельствуют, как реально, не выдумано то щемящее отрадное чувство, которое рождает чеховское творчество. Об этом же объективном существовании того, что не укладывается в слова, свидетельствует сам Чехов. Он мог написать: «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас».
Чехов наполнил свои книги очень многими живыми и свежими картинами. Это и степь, и красавицы, и майский сад в рассказе «Невеста», и пасхальная радость в рассказе «Казак», и счастье влюблённости в «Учителе словесности»; и дождь, и красивая Пелагея, и дом со старинными портретами в «Крыжовнике» и… к счастью, в примерах можно утонуть. Чехов создал в литературе «левитанистые» не только пейзажи, но и портреты, и бытовые сцены — целый живой, свежий, чрезвычайно разнообразный отрадный мир.
Этот мир сродни ещё и Чайковскому, это та щемящая красота, искусством отражённая, которая ставит Чехова в незыблемый ряд всемирных сокровищ. Вспомним всякий раз выстраиваемый ряд: Толстой, Достоевский, Чехов.
Так что же это за «левитанистость», и не может ли она стать для нас ключом к Чехову? Бывает красота, которая замыкает зрителя или слушателя на себе, а бывает открывающаяся, распахивающаяся к большему и лучшему. И к этому большему и лучшему мы и тянемся, о нём тоскуем отрадною тоскою. Но это ни в малейшей мере не символизм, не то, что «видимое нами, только отблеск, только тени, от незримого очами». Нет и нет.
У Чехова красота не превращается в знак, не является вторичной и второстепенной.
Посмотрите, как похоже и близко описано это чувство красоты у Толстого. Князь Андрей слушает пение Наташи. «Князь Андрей почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слёзы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать? О чём? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее?.. Да и нет. Главное, о чём ему хотелось плакать, была вдруг живо осознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нём, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время пения».
А теперь пример совсем сегодняшний. Хочется процитировать несколько отрывков из интервью с Юрием Борисовичем Норштейном:
«Видите ли, мельчайшие частички бытия для меня вырастают в саму сущность жизни…
Прекрасно не только прикосновение ладони любимой к твоему лицу, но и подагрические пальцы твоей мамы, и хромая собака, и выцветшая на солнце и омытая дождями доска, и запылённая листва. Мир заполнен многообразным опытом, и общего ответа нет. И всё же, если ты держишь младенца на руках, ты испытываешь восторг, и смысл отрицательного опыта полезен хотя бы тем, что заранее заставляет тебя проникаться пронзительной печалью о судьбе твоего ребёнка или друга, или просто близкого тебе. Если ты испытываешь горечь, грусть от предстоящей чьей-то судьбы, ты уже невольно участвуешь в мысли, что есть нечто, ради чего стоит писать стихи, делать фильмы, сочинять музыку, жить и просто трудиться».
Лермонтов и Бунин говорили определённее:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.
Это Лермонтов, а вот Бунин:
То, что есть в тебе, ведь существует,
Вот ты дремлешь, и в глаза твои
Так любовно мягкий ветер дует —
Как же нет Любви.
Бунин написал о Любви с большой буквы. Это та «Любовь, что движет солнце и светила», это Господь, а весь мир, кроме греха, — материализованная Любовь Создателя. Чехов рисует словом именно это, и этим он нам сладок и отраден.
Чехов бывает и строг, и страшен, и насмешлив; у Чехова плохо с хэппи-эндами, а читать его всё равно отрадно. И хочется привести примеры приписанных Чехову хеппи-эндов, необычайно органичных, как оказывается. Художественный фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» оканчивается, по сути, торжеством и апофеозом Душечки из одноимённого рассказа. Но «Душечка» рассказ тоже не однозначный: даже самая самозабвенная наша любовь к близким не составляет полноты и не является полновесным и безоговорочным идеалом. Толстой, правда, Душечку идеалом считал.
В «Неоконченной пьесе…» есть переклички с другими героями Чехова. Есть там и почти Душечка Сашенька. Её чувство — лучшее из всех чувств и побуждений других персонажей, но счастливый конец всё же не в ней. Над нелепыми и нескладными героями фильма поднимается рассветное солнце — и в красоте мира: излучины реки, леса, рассвета, и арии из оперы великолепного Доницетти — во всём этом — Любовь. Фильм — прямо квинтэссенция Чехова, ведь «левитанистый» Антон Павлович и без возможностей кинематографа постоянно утешает нас.
А в спектакле Киевского театра на Печерске, который представляет собой отдельно сыгранные разные чеховские истории, в финале все персонажи включаются волею режиссёра Елены Лозович в рассказ «Святою ночью». Все они плывут на пароме к монастырю в Пасхальную ночь — и во всех их нескладных жизнях появляется смысл и красота, потому что всех этих людей любит Господь.

Страшный Чехов
Утешаясь отрадною красотою в творчестве Чехова, нельзя оставить за скобками его страшные рассказы. «Ванька», «Спать хочется», «В овраге», «Палата № 6» — это тоже Чехов.
В этих страшных рассказах Чехов снова зовёт проснуться и стать лучше, но уже не сладко манит, а больно бьёт. Это уже не тактичный и деликатный «человек с молоточком». Вот он финал рассказа «Палата № 6». Здесь уже нет ускользания и недоговорённости. Жить для других, делать то, что ты можешь и должен, нужно бесспорно. Но Антон Павлович оставил нам очень серьёзные предупреждения, чтобы не совершать роковых подмен.
Безлюбовные «добрые дела» для развлечения или утверждения своей праведности страшны. Красивая Лида из «Дома с мезонином», занятая школой, открытием медицинского пункта, борьбой с порочным председателем управы, проявляет по отношению к сестре страшные самоуправство и жестокость. Ей просто не приходит в голову, что она может быть неправа. Какая-то исполненная служения ближнему молодая и красивая Кабаниха просто. Гордыни много, любви и тепла нет, есть упоение правильностью и праведностью. Тут всё очевидно.

Интереснее и страшнее поговорить о Варваре из повести «В овраге». Она появилась в качестве второй жены в доме овдовевшего лавочника Цыбукина.
«В том, что она подавала милостыню, было что-то весёлое и лёгкое, как и в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки; милостыня её действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине».
Порой Варвара ворчит тихонько: «Сердце моё болит, дружок, уж очень народ обижаем. Обижаем как — и Боже мой. Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника нанимаем — на всём обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей дёготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать».
Мы можем сказать: «А что ей делать-то? Что она может? Как переломить весь уклад жизни мужа и хищной, всем заправляющей невестки?».
А вот уж обнаружилось, что старший сын хозяина — фальшивомонетчик. Всем тревожно и страшно. «Только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением». А вот и финал повести. «На окнах по-прежнему цветёт весёленькая герань. Старик Цыбукин, муж Варвары, «стал как-то забывчив», «летом и зимой ходит в шубе, с утра до вечера сидит около церковных ворот, если не дать ему поесть, то сам он не спросит». Настоящая хозяйка — невестка Анисья, сознательно обварившая до смерти кипятком младенца-племянника, изгнавшая безответную мать его. Она прибрала к рукам всё и приумножает богатства.
А что же Варвара?
«Варвара ещё больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод; и оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать».
И это бы ладно, но про своего мужа она говорит:
«- А наш вчерась опять лёг не евши.
И говорит равнодушно, потому что привыкла».
В самом конце повести мы видим изгнанную прежде невестку Липу, которая идёт в толпе баб, весь день нагружавших вагоны кирпичом. Она встречает своего свёкра, сидящего неподвижно в шубе на лавочке, достаёт кусок пирога с кашей из узелка работавшей вместе с ней больной задыхающейся матери и протягивает ему. Старик плачет и ест. И всё. И за весёленькой геранью и милыми лампадками зияет трухлявая чёрная сердцевина варвариного «благочестия».
Человеческие грехи испокон веков одни и те же, и Варвара — тот безлюбовный фарисей, которых упрекал Господь, за то, что они отказывали родителям в содержании, мотивируя это тем, что эти деньги пожертвованы на храм. Страшно.
К сожалению, именно своей актуальностью страшны размышления Чехова о лукавых кульбитах мысли. Не хочется перечислять очевидное, но сегодня мы, как никогда прежде, наглядно видим, как лукавство мысли губительно и опасно, и чревато переворотами и смертями. Мы видим, что всякая кровь начинается непременно со лжи или воодушевлённой веры в ложные идеи. И в связи с этим нельзя не упомянуть рассказ «Огни», где Чехов предсказывает, что «словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь».
Я, возможно по невежеству, не знаю другого литературного произведения, темой которого была бы честность и глубина мыслей. Я не знаю, где бы ещё так открыто и обстоятельно утверждалось бы, что ключ к настоящему мышлению — совесть. Чехов может испугать, может утешить, но любят его, думается, те, кто слышит его зов измениться к лучшему, и надеются, и верят, и окрыляются.